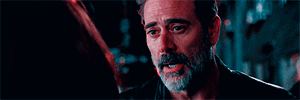юность кажется бесконечной. чонгуку всего лишь шестнадцать, его юность только-только начинается, прорастая в сердце болюче-колюче, неуютно, неуклюже расцветая и принося одно открытие за другим. чонгук юностью дышит полной грудью и рвано выдыхает, цепляется за перила, за стену, за рукав бомбера юнги и бежит-бежит-бежит на встречу взрослению, спотыкаясь, разбивая в кровь коленки, царапая ладони, но каждый раз поднимается и каждый раз бежит дальше. бесконечный калейдоскоп жизни, которая пахнет солоноватой кровью, сладковатой карамелью и тяжёлыми дымными сигаретами, а ещё ветром, потом и чем-то совсем неизведанным. наверно, самой юностью, возможно, самим взрослением.
юнги — это квинтэссенция всего, что чонгуку нравится. пара странных татуировок, многочисленный пирсинг в ушах и светлые, меняющие оттенки жесткие выжженные волосы, лезущие в глаза. рваные джинсы, огромные бомберы и тяжёлые дымные сигареты, к которым чонгука так тянет. чонгук курить совершенно не умеет, пить особо тоже, зато умеет любить. чисто и искренне, совсем по-детски. и юнги любит сильно-сильно, так сильно, что хочется захлебнуться и утонуть в собственной любви. чонгук восхищается, уважает и смиренно-преданно смотрит, как щенок, ждущий своего хозяина. юнги смотрит в ответ нечитаемо совсем своими малюсенькими глазами-чёрными-дырками, а потом начинает улыбаться. так, что чонгук потерянно улыбается в ответ, не понимая совершенно, почему юнги такой красивый (во-первых) и улыбается так мягко, желейно, как куча мармеладных мишек (во-вторых).
юность и юнги переплетаются между собой, как два неотчуждаемых понятия. для чонгука юнги — синоним к слову "юность", для чонгука юнги — безвозвратно убегающее каждую секунду настоящее, за которое не успеваешь ухватиться, зацепиться, задержаться. юнги — нечто хрупкое, стеклянное почти и слишком недолговечное. его маленькие тусклые глаза блестят, когда он оборачивается к чонгуку при побеге от ментов. или когда он поздравляет чонгука с днём рождения. или когда они впервые целуются под октябрьским ветром, шуршащим в окно, в квартире юнги и намджуна, куда чонгук прописался как будто на постоянное место жительства. или когда просто остаются вдвоём. чонгуку раньше казалось, что взгляд у юнги слишком сосредоточенный и потухший, мёртвый даже. юнги казался не живым, а каким-то прозрачным совсем, эфемерным, как призрак заброшенных железных дорог. чонгук присматривался к нему долго, смеялся с его едких шуток, а потом юнги ему, именно ему улыбнулся так живо, так ярко и мягко, что пришлось ловить воздух ртом.
наверно, юнги для чонгука — первая настоящая любовь. наверно, юнги для чонгука — тот, к кому всегда хочется возвращаться, чьими ужасными сигаретами хочется дышать, в чью шею хочется уткнуться разбитым в драке носом, за чью руку всегда хочется держаться. чонгук почему-то совершенно уверен, что юнги не всё равно. что юнги — больше, чем всё, что только может прийти на ум. что юнги, наверно, его семья в большей степени, чем родная мама и новый отчим со своим сыном.
чонгук выдыхает сигаретный дым юнги в лицо и смеётся, обнимая за талию. юнги тоже смеётся и тащит за собой в тёмный ночной пусан, подсвеченный неоном и металлическим привкусом от прикушеной щеки. юнги, наверно, уже немного пьян, а чонгука таращит с одной сигареты (и немного с самого юнги) так, что кружится голова. у них на двоих витиеватый маршрут по самым злачным районам города, темнота хитросплетения улиц и одна тлеющая сигарета, зажатая в пальцах юнги. юность кажется бесконечной.
•••
юность кажется бесконечной. чонгуку уже двадцать три, его юность пустила корни и шипы, впивающиеся в кожу намертво, разрывающие набухшие вены, пускающие кровавые потоки боли. чонгук задыхается, захлёбывается в собственной крови, в собственной боли, в собственном яде, отравляющем организм на постоянной основе, и не может бежать дальше. останавливается, вцепившись ладонями в колени, и дышит громко, надрывно. калейдоскоп жизни пахнет сыростью и тяжёлым, мутным, густым разочарованием. чонгук к своим двадцати трём устал разочаровываться.
юнги — это всё, что у чонгука есть, всё, что чонгук так любит, что так жаждет откровенно. всё в нём, в юнги, от татуировки бабочки на запястье до жёстких, испорченных краской светлых волос, от бледной кожи до виртуозно двигающихся по фортепиано пальцев, от ментоловых сигарет до подведённых для концертов глаз, всё это прекрасно, великолепно, идеально. чонгук всё так же юнги любит, вот только теперь это чувство какое-то горькое, порочное, сожравшее то светлое и чистое, детское, что было в чонгуке. что было в его любви к юнги.
юность и юнги переплетаются между собой, как два неотчуждаемых понятия. чонгук подарил свою юность юнги так просто, почти беззаботно, чтобы харкать кровью вместе с остатками ядовитых, разъедающих горло чувств где-нибудь в туалете какого-нибудь клуба. юнги теперь не тот забитый маленький двадцатилетний мальчик с большими мечтами, не тот, кто делит квартиру с лучшим другом, не тот, кто ест исключительно дешёвую лапшу на завтрак, обед и ужин, не тот, кто бросил школу, чтобы обеспечить будущее брату. теперь юнги — звезда мировых масштабов, теперь у юнги псевдоним шуга или может даже агуст ди, теперь у юнги бесконечные гастроли, концерты, новые люди, новые впечатления, новые ощущения, в которые чонгук вписывается как-то совсем плохо, хоть и очень старается.
наверно, юнги для чонгука первая и последняя любовь. настоящая, искренняя, светлая раньше и почившая в мраке и разочаровании сейчас. чонгуку больно-больно-больно, так ужасно больно, когда юнги снова не приходит домой, что начинает тошнить. чонгук погряз в своих чувствах, в своей обреченной юности, в своей ненависти к себе и этим отношениям, слепой, беспощадной и такой бессмысленной. ведь чонгук с юнги уже семь лет. и юность кажется бесконечной.